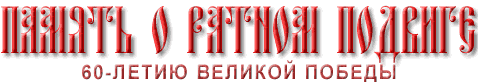|
Политика, партии, блоки - вещи в истории преходящие. Но были - и
есть! - нетленные основы народного, державного бытия. Если
сформулировать самым кратким образом, их было две: Революция и
Традиция. Интересно при этом, что и революция наша не была
отрицанием, а лишь обновлением Традиции. Империя, образно говоря,
лишь сбрасывала с себя верхние, элитарные слои, как старая мудрая
змея сбрасывает, обновляясь, кожу.
В реальном содержании 1917 год и Гражданская война выглядят так. Со
всех сторон, как в древние времена, на Русь шли враги. Немцы до
октября 1918 года оккупировали весь запад страны. В Одессе
высадились французы, в Баку и Средней Азии - англичане, на Дальнем
Востоке - японцы, в Архангельске - американцы. Под Петроградом -
белоэстонцы, Киев захвачен белополяками. Не умыслом большевиков, а
волей истории получилось так, что "красные" оказались единственными
защитниками России. Красные, которые сидели тогда практически лишь в
одной Москве, в границах Руси Ивана Калиты, сумели организовать
оборону страны и выбить отовсюду Белую Армию и поддерживавших ее
иноземцев. И, по существу, восстановили к 1922 году Империю.
Кто и что дал им на это силы? Жертвенное служение Армии и Церкви.
Офицеры и генералы царской армии, пошедшие в Красную Армию, начиная
с А.А.Брусилова, С.С.Каменева, П.П.Лебедева - все бывшие
генштабисты. Несколько сотен генералов и 30 тысяч офицеров - именно
они, а не партизаны Щорс и Кочубей, не бывшие унтеры Чапаев и
Буденный, построили Красную Армию и выиграли войну.
Они не пошли за белыми, точно так же, как Русская
Церковь не пошла за белыми. Те, кто пошел, ушли из России и из
истории. Но Русская Церковь и Русская Армия остались с Россией.
Мы сказали: жертвенное служение. Да, они прекрасно знали, что
сегодня ведут войска в бой, а завтра попадут под трибунал и будут
расстреляны как военспецы. Так же и епископы и священники,
оставшиеся со своей паствой, - уходили в тюрьмы, лагеря и на смерть,
но не уходили из России. На их костях и на их крови строилась Новая
Держава. Это жертвенное служение, которым всегда стояла Россия, оно
и привело к восстановлению Империи в 1922 году и к Победе в 1945-м.
Без выстрела "Авроры" не было бы красного знамени над поверженным
Рейхстагом.
Итак, оказывается, что внутренний, религиозный, если угодно, смысл
не только революции, но и всего советского периода, - битва за
Россию?
..О нападении Германии глава Русской Церкви Митрополит Сергий
Страгородский (1867 - 1944) узнал, вернувшись домой воскресным утром
22 июня 1941 года, после служения литургии в Елоховском
Богоявленском соборе. Это было второе воскресение после Троицы -
день, в который Церковь празднует память всех Русских Святых. Он
тотчас ушел в кабинет, и оттуда послышался стук пишущей машинки.
"Нам не приходилось даже задумываться, - скажет Сергий позже, -
какую позицию должна занять наша Церковь во время войны".
Руководство Московской Патриархии оказалось в тот день энергичнее
многих светских инстанций. Послание к верующим не только было
написано, но и разослано по всем приходам, по всем уголкам Союза.
"Церковь благословляет всех православных на защиту священных границ
нашей Родины. Господь нам дарует победу", - такими пророческими
словами заканчивалось послание.

C первых дней Церковь вдохновляла народ на
подвиг. Главным ее делом была молитва: молитва об одолении врага, о
здравии живых и вечной памяти павших. Как это нужно было верующим -
в осажденном Ленинграде, где все 900 дней блокады, среди ужаса и
мрака, совершал литургию митрополит Алексий Симанский... В
затемненной Москве, под немецкими бомбежками, когда враг рвался к
столице, а в храмах надеждой и верой звучали слова Первосвятителя:
"Над нами Покров Богородицы, всегдашней Заступницы Русской Земли".
Второе важнейшее направление церковной работы: сбор средств на нужды
фронта и помощь жертвам войны. Так, всего за несколько месяцев
верующие Троицкого храма города Горького внесли в фонд обороны более
миллиона рублей. На извещении об этом - резолюция Митрополита
Сергия: "Браво, Нижний Новгород, не посрамил мининскую память". В
Саратове за один 1943 год (мы не всеми данными располагаем) внесено
от приходов и духовенства два миллиона, в Орле, сразу после его
освобождения, - два миллиона. Всего за годы войны пожертвования
Церкви на нужды обороны составили несколько сотен миллионов рублей.
Наиболее яркий факт - сооружение танковой колонны имени Дмитрия
Донского и эскадрильи Александра Невского. 30 декабря 1942 года
Митрополит Сергий обратился с призывом собрать средства на танковую
колонну. "Пусть наша церковная колонна понесет на себе благословение
Православной Церкви и ее неумолкаемую молитву об успехе русского
оружия", - писал он.
3 февраля 1943-го он телеграфирует Сталину, что средства собраны.
Ответная телеграмма Верховного Главнокомандующего: "Прошу передать
православному русскому духовенству и верующим, собравшим 6 миллионов
рублей, золотые и серебряные вещи на строительство танковой колонны
имени Дмитрия Донского, - мой искренний привет и благодарность
Красной Армии".
В сентябре 1943 года Патриархия возвращается из эвакуации в Москву,
4 сентября три митрополита - Местоблюститель Сергий, Ленинградский
Алексий и Николай Крутицкий были приняты в Кремле. Через четыре дня
состоялся Архиерейский собор Русской Православной Церкви, епископы
были доставлены в Москву военными самолетами. Совершилось важнейшее
деяние: впервые после смерти Патриарха Тихона в 1925 году Церкви
было разрешено вновь избрать Патриарха. Им стал Сергий Страгородский,
уже 18 лет возглавлявший церковный корабль в звании Местоблюстителя.
...Он не дожил до Победы, умер 15 мая 1944 года. Его гробница - в
Никольском приделе Патриаршего Богоявленского собора. Там же, в
соборе, мощи еще одного великого русского Святителя - Митрополита
Московского Алексия, возглавлявшего Русскую Церковь в канун
Куликовской битвы, воспитателя Дмитрия Донского.
"Мощи" - от слова мощь
Огромное значение имела патриотическая позиция
Церкви для людей, оставшихся на оккупированных территориях. Помимо
участия в партизанском движении, духовенство способствовало
сохранению у людей сознания единства со всей большой Родиной, веры
во временный характер наших поражений и конечную неизбежность
освобождения.
Используя националистические течения на Украине, в Белоруссии, в
Прибалтике, немцы пытались насадить там "автокефальные церкви", то
есть оторвать верующих от церковного единства, от Московского
Патриарха. Но православный народ не шел на это. В пику
"автокефалиям" были созданы Автономные Православные церкви, которые
в условиях оккупации, трудно поверить, продолжали официально
сохранять молитвенное и каноническое единство с Московским
Патриаршим Центром. И немцы ничего не могли поделать.
Так в Великой Отечественной, как когда-то при монгольском иге и
феодальной раздробленности, вновь Церковь стала основой
национального единства и самосознания, залогом Победы.
Наступил 1945 год. 31 января в храме Воскресения Христова в
Сокольниках открылся Поместный Собор. Новым Патриархом стал Алексий
Симанский. 10 апреля Глава Церкви вновь встречался с Главой
государства: патриарху Алексию предстояла важная не только в
церковном, но в дипломатическом отношении миссия - поездка по
странам Ближнего Востока. В том, что весь христианский мир, и прежде
всего древние Православные Патриархаты Востока, были неизменно на
нашей стороне в войне с Германией, - тоже заслуга Русской Церкви.
Вскоре, в мае 1945 года, патриарх Алексий отправляется в
паломничество в Святую Землю. Битву за Берлин логически продолжает
церковно-дипломатическая битва за Иерусалим".
Сталину мало восстановить Россию. В 1945 году мы уже вышли за
пределы Империи, речь идет о восстановлении русского православного
присутствия в мире и в главном месте мира - у Гроба Господня. В 1946
году в отчете Совета по делам Русской Православной Церкви говорится
о "новых мероприятиях, имеющих принципиальное политическое
значение". Полковник Г.Г.Карпов (именно он возглавлял Совет), как
заправский богослов, формулирует: "Как известно, РПЦ, получившая
самостоятельность (автокефальность) в 1448 году, занимает среди всех
Автокефальных Православных Церквей мира лишь пятое место. Между тем
ее удельный вес в православном мире и возросший в последнее время
(за годы войны. - Н.Л.) авторитет дают основания к тому, чтобы она
заняла первое место. Разрешенное еще ранее Правительством и
намечаемое Патриархом Алексием на сентябрь 1947 года Предсоборное
Совещание в Москве глав или их представителей всех Автокефальных
Православных Церквей и преследует, в качестве основной цели,
подготовку созыва в 1948 году (500-летия самостоятельности РПЦ) не
собиравшегося уже несколько веков Вселенского Собора для решения
вопроса о присвоении Московской Патриархии титула Вселенской".
Не правда ли, круто? Россия вновь, может быть, в последний уже раз,
пыталась собрать православный мир, "как птица собирает птенцов под
крыло свое". Разумеется, с точки зрения церковно-исторической и
канонической, это выглядит не более чем утопией. Начиналась холодная
война - война, в том числе, за Восточные Патриархаты. И когда в 1948
году Всеправославное Совещание в Москве состоялось, американцы
приняли уже меры, чтобы ни Константинопольский, ни Александрийский
патриархи не приехали в Москву. От ведущих Церквей в Москву приехали
только митрополиты. Правда, из Антиохийского Патриархата приехал
знаменитый Илья Караме, который, по восточному преданию, всю войну
молился о России и вымолил ей победу. На приеме в Кремле, подымая
тост, он сказал: "Как говорит И.В.Сталин, нам нужно сильное
Православие". Зал вздрогнул и смолк: все знали, что Сталин такого не
говорил. Митрополит тоже секунду помолчал - и продолжил: "Может
быть, Иосиф Виссарионович буквально так и не говорил, но я уверен,
что он так думает".
Он так думал. России нужно было сильное Православие...
|